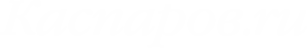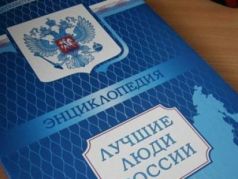Только написав целиком пост о "силе", "воле" и "праве", я вдруг понял, что главное слово было пропущено: "вера".
Боюсь, что без веры мечта о правовом государстве, а вместе с ним – о настоящей демократии является утопией. И я не о России, а в принципе. Просто на примере России, где всё всегда доводится до крайностей абсурда, исследовать этот вопрос удобнее всего.
Чем больше я думаю о кризисе права и демократии в мире, тем больше убеждаюсь в том, что как минимум современное европейское право и выросшая как надстройка над ним конституционная система являются всего лишь случайной "исторической мутацией", в равной степени полезной и хрупкой.
Это как с зарождением жизни: было гораздо больше шансов на то, чтобы остаться навсегда во тьме хаоса и насилия, чем на то, чтобы в одной конкретно взятой точке истории появилась идея современного права. Не скрою, впрочем, что раньше я смотрел на это иначе – то есть воспринимал право и свободу не как дар Божий, а как нечто естественное, for granted.
Из всех факторов, которые оказали влияние на современный “правогенез”, я с высоты своего сегодняшнего опыта выделил бы в качестве решающего формирование общности (социального пузыря) с аномально высоким (относительно обычного) уровнем доверия ее членов друг к другу.
Без этой "доверительной аномалии" возникновение современного права было бы просто невозможно. Хотя бы потому, что невозможен сколько-нибудь продолжительный односторонний отказ от насилия в пользу правил. Это всегда дорога с многосторонним движением.
Люди способны длительное время соблюдать правила, несмотря на то, что обладают достаточным ресурсом, чтобы нарушить их в своих интересах, только при условии, что у них есть уверенность, что и другие будут соблюдать эти же правила, то есть когда между ними существует достаточный уровень доверия.
Но откуда он может взяться? Тут я не открою бином Ньютона. Связь современного западного права с христианством и многолетней деятельностью церкви по удобрению европейской культурной почвы давно и в деталях исследована. Тех, кто желает заглубиться в тему, просто отсылаю к Бергсону и Берману.
Думаю, есть и те, кто проследил связь шариата с исламом, хотя она, в отличие от связи западной правовой и христианской традиции, и лежит на поверхности. Просто здесь я не считаю себя экспертом.
Но сейчас меня волнует другой вопрос: почему эта связь оказалась и столь сущностной, и столь эффективной? Мой ответ состоит в том, что ключевую роль сыграло именно доверие членов "большой христианской общины" друг к другу.
Принадлежность к одной церкви так или иначе, с разнообразными оговорками и понятными ограничениями, стала первой предпосылкой отказа от "естественного права", основанного на иерархии силы, в пользу современного права, основанного на иерархии принципов (в свою очередь также выведенных как дериватив религиозных догм, что как раз можно считать доказанным фактом).
То есть дело не только в связи права и религии, о чем много кто писал, но и в функциональной их связи. Религия (если мы говорим о "мировых религиях") создает особую "общность нового типа", внутри которой развиваются доверительные отношения, являющиеся питательной средой (бульоном) для возникновения современного права. Судьба права в перспективе всегда будет зависеть от качества этого бульона.
В дальнейшем роль религии ушла на второй план, но только потому, что на первый план вышли идеологии. Кризис идеологий, которому все так радовались, как выяснилось, имел, как луна, и свою темную сторону – кризис доверия. Его глобальные последствия мы сейчас и преодолеваем.
Конечно, связь религии и права не является непосредственной и ее нельзя воспринимать буквально: "религия рождает право". Это было бы дешевой пародией на философию права. Речь идет о генезисе, а не о причинно-следственной связи.
Тем не менее, надо помнить, что, когда мы говорим о современном европейском и вообще западном обществе, то все его основные, хорошо знакомые нам черты, включая политические институты и право, были выпестованы именно в лоне западного христианства, которое сформировало платформу для возникновения гражданственности (citizenship) – собственно той базы, на которой стоит современный западный мир и которой как не было, так и нет до сих пор в России.
Но как был пройден этот путь от западного христианства до этой самой гражданственности и вытекающих из нее современного западного права и конституционализма? И можно ли пройти этой же дорогой в обратную сторону, закончив где-нибудь в суде инквизиции?
По всей видимости, из всех христианских добродетелей наиболее важной с точки зрения происхождения права оказалось братство, более знакомое нам как знамение Нового времени. Когда я в молодости почти механически считывал главный лозунг европейских революций эпохи Просвещения, – "Свобода, равенство, братство", – я обычно не дочитывал его до конца. Свобода – вот что меня манило. Равенству я отдавал должное. До братства дело обычно не доходило. Сегодня я понимаю, что этот слоган надо читать справа налево.
Братство, по всей видимости, является той единственной основой, из которой могло вырасти политическое равенство, которое в свою очередь явилось условием возникновения и существования свободы. Но что такое братство как не калька с отношений первичной христианской общины, для которой мораль введена в качестве дополнительного и более значимого регулятора отношений между членами общины, чем закон. То есть братство – это всегда чуть больше, чем просто закон и даже справедливость. В самом упрощенном виде – это закон плюс справедливость плюс любовь (альтруизм).
Именно то, что "крот христианства" на протяжении многих веков взрыхлял почву европейской культуры, добавляя в нее "полезные удобрения" христианских моральных ценностей, создало уникальные предпосылки возникновения современного западного права и всего того, что с ним ассоциируется. Без этой культурной работы, формирующей "поле доверия", скачок от господства "права силы" к доминированию "силы права" был бы невозможен. Это прописные истины для тех, кто по ночам читает Рассела, Бергсона и Бермана (я список авторов прочел до середины...), но широким массовым сознанием они сегодня полностью утрачены, как утрачено и понимание глубинной сущностной связи между политикой, правом, моралью и религией. Это софт, нуждающийся сегодня в восстановлении.
В Новое время религии стали светским делом, переодевшись идеологиями. Либерализм вытеснил (точнее – потеснил) христианство, но функционально продолжил выполнять ту же роль, поддерживая на плаву тот "пузырь доверия", внутри которого процветала конституционная мифология. В XX веке прозвучали грозные предупреждения, мы увидели, как либерализм легко конвертируется в свои противоположности (фашизм, нацизм, большевизм). Польза идеологий была поставлена под сомнение, и когда на рубеже XX и XXI веков они все вдруг стали приходить в упадок, приобретая ярко выраженный декадентский вырожденческий профиль, большинство выдохнуло с облегчением.
Но это был преждевременный скорее вдох, чем выдох. Оказалось, что без идеологий, поддерживающих "доверие", ничего из того, что обеспечивает столь приятные и дорогие многим "европейские ценности", работать не может. Источник силы права, как выяснилось, находится вне самого права. Похоже, мы его утеряли. Возвращение возможно лишь в том случае, если в возрождающейся идеологической борьбе победит "струя", способная сформировать платформу для "нового братства". Пока до этого далеко.
! Орфография и стилистика автора сохранены