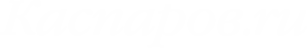Пришло время для традиционного длинного "чтения выходного дня". Дело в том, что у меня возникла внутренняя потребность вернуться к теме силы как источника права, особенно в эпоху непрерывных перемен (возможно, это аномальная реакция на последнюю по времени дискуссию с Ходорковским, после которой осталось чувство недосказанности).
Но главная причина, конечно, в том, что любое явление можно изучать, так сказать, на разных уровнях: можно на макроуровне, а можно и на микроуровне. Мне кажется, что, если перейти на этот "молекулярный" уровень, то станет очевидным, что сила становится правом через волю, а право приобретает силу через доверие. То есть воля и доверие – две ключевые категории для анализа взаимодействия силы и права. Это, кажется, тот штрих, которого мне не хватило в завершившейся дискуссии, и то, что я хотел бы сейчас восполнить.
Часть I. Воля и сила.
Для меня когда-то брошенные Путиным слова "я могу сделать – значит, я должен сделать" являются ключом к пониманию логики путинского правления. Моя интерпретация этой далеко не случайной, на мой взгляд, фразы сводится к тому, что Путин сформулировал некий важный для него и для его круга морально-политический императив, обозначающий признание внутреннего обязательства реализовать имеющуюся возможность действия как реальное действие.
Применительно к современным реалиям это может означать, что, если я могу воевать и взять что-то силой, – например, территории, но не только, – значит, я должен (обязан) воевать и взять силой "столько, сколько могу унести". С некоторой натяжкой можно говорить, что абстрактная возможность какого-то действия превращается таким образом в право действовать вполне конкретным образом, с помощью воли, принимающей в расчет исключительно силу, а не какие-то не устраивающие субъекта действия формальные ограничения, – например, договора, в том числе многосторонние. Мы снова живем в эпоху, когда сила через волю конституирует себя как право.
И это вовсе не про одного Путина. Когда Трамп вдруг вспоминает о Гренландии или Панамском канале во вполне определенном контексте, он, по сути, находится в рамках этой же путинской парадигмы. Я могу взять и то, и другое силой. Значит, я должен взять их силой (естественно, "во имя высших интересов", – например, безопасности). Следовательно, это можно рассматривать как мое право. Во всех таких случаях логическая цепочка политики выглядит очень короткой: я могу применить силу – я обязан применить силу в высших интересах, если у меня есть возможность ее применить – у меня есть право применить силу, которое вытекает из долженствования ее применить.
Я думаю, что нечто похожее мог бы сказать себе и Нетаньяху, готовя ответ Израиля Ирану. В будущем нечто похожее обязательно придет в голову председателю Си, когда он решит, что пора бомбить Тайвань. Тут нет на самом деле ничего специфически путинского – это знамение времени. Оно в том, что при наличии силы располагающий ею субъект теперь сам без каких-либо внешних ограничений определяет целесообразность, масштаб, время и место ее применения. Он может колебаться, может прийти к выводу, что расклад сил не в его пользу или просто посчитать, что овчинка не стоит выделки. Но в каждом конкретном случае именно "голая воля" действующего субъекта де-факто выступает "источником права".
Часть II. Воля и Право
Но разве так было не всегда? Разве когда-нибудь вооруженная (в широком смысле слова – то есть обеспеченная ресурсом) воля бывала ограничена чем-то иным, кроме как какой-то другой, неподконтрольной ей силой? Разумеется, я сейчас пишу не про отражение реальной политики в мифологии и искусстве.
Это непростой вопрос, потому что ответ на него будет нелинейным – и да, и нет, особенно если речь касается отношений между странами, то есть о международном праве. О национальном (внутреннем) праве в этом аспекте можно писать бесконечно, и это тема большого отдельного разговора. То, что сила с помощью воли конституирует себя в качестве права, на самом деле давно не новость. Так было испокон веков, и это, в общем-то, и есть настоящее "естественное право" в его первозданном виде, а не в представлениях романтиков эпохи европейского просвещения. В этом смысле ни Путин, ни Трамп, ни Нетаньяху не привносят в нашу жизнь ничего нового. Они-то как раз естественны, они – натуральны, они – обычны.
Что же делает сегодняшнюю ситуацию в глазах миллионов людей (в основном живущих в Европе и в Америке) необычной и даже ненормальной? Проблема в том, что, помимо этого "естественного права", в человеческой истории было еще кое-что, а именно – попытки наложить на "голую силу" некие внешние ограничения, вытекающие не из другой силы, а из признания обществом (обществами) определенных моральных систем, имеющих в конечном счете своим основанием ту или иную религиозную доктрину (в наших краях речь, разумеется, идет о христианстве). Эти принципы, честно говоря, накладывались на "естественное право силы" с большим трудом, что создавало на протяжении всей человеческой истории сквозной конфликт между "должным" и "сущим". В мире должного царила сила права, а в мире сущего господствовало право силы. И, тем не менее, что-то, почерпнутое из этих идеалистических представлений о добре и зле, цеплялось за реальность, в результате чего кое-где и весьма периодически возникал правопорядок, в основе которого лежала не только сила, но и определенные ценности.
Этот правопорядок, где принципы и ценности ограничивают силу, я бы назвал скорее "противоестественным", чем "естественным". Он может рассматриваться как историческая мутация, своего рода случайная полезная аномалия, предпосылок для которой в естственной среде как раз таки нет. Современный правопорядок по-прежнему почти целиком определяется правом силы, и лишь на какие-то доли процентов – силой права. Но, размышляя об этом, надо помнить, что и то, что отделяет человека от обезьяны, укладывается всего лишь в 4% генома – все остальное у этих приматов совпадает.
Проблема нашего времени состоит отчасти в том, что в предшествующую эпоху в Старом Свете и на прилегающих к нему территориях случился трагический развод представлений о реальном мире с самим этим реальным миром. С одной стороны, выросли несколько поколений, действительно поверивших в то, что мир управляется принципами и ценностями, с другой стороны – в самом этом реальном мире наблюдался экспоненциальный рост энтропии, из-за чего, наоборот, лишь возрастала "правотворческая" роль "голой силы". Сейчас мы пожинаем плоды этого развода, благодаря которому финальная битва добра и зла начинает выглядеть как битва армии ханжей с армией циников.
Вопрос, по сути, надо ставить не о том, почему мы возвращаемся к доминированию права силы, а о том, почему, за счет чего и каким образом нам на предыдушем историческом шаге удалось уйти от этого "естественного порядка" и поверить, что именно другой, противоположный ему "порядок, основанный на правилах" является нормой для человечества?
ЧАСТЬ III. ПРАВО И ДОВЕРИЕ.
Истина, как всегда, потерялась где-то на нейтральной полосе. Сила по-прежнему формирует в межгосударственных отношениях право и тот его дериватив, который принято называть правопорядком. Но принципы и ценности, имеющие своим происхождением мораль в самом широком смысле этого слова, выросшую в лоне религии, вносят в эту картину свои коррективы, устанавливая более-менее работающие ограничения. Смысл этих ограничений предельно прост: даже тогда, когда я могу что-то сделать, принимая во внимание расстановку сил, я не должен этого делать, исходя из своих убеждений. То есть, современный международный правопорядок в реальной жизни выстроен как на балансе сил, так и на соблюдении морального императива, в некотором смысле противоположного тому, который был еще на заре эпохи сформулирован Путиным и которому по умолчанию сегодня следует Трамп: моя сила может быть ограничена моими убеждениями или, по крайней мере, правилами, за которые я "вписался". Соотношение здесь явно не в пользу морали, и разрыв между реальностью и принципами лишь усугубляется, но полностью исключить "ценностные установки" из расчета пока вряд ли получится.
К сожалению, для того, чтобы этот действительно несколько "противоестественный" при ближайшем рассмотрении порядок, основанный "на правилах", мог работать, нужна валюта, дефицит которой и является причиной сегодняшнего кризиса. Этой валютой является "доверие". Для любой системы, выстроенной не только на силе, но и на "принципах и ценностях", необходим минимальный уровень доверия в отношениях между участниками. Именно потому, что сегодня этот уровень упал ниже критических пороговых значений, "право силы" заняло доминирующую позицию на историческом пьедестале.
Всматриваясь в те недолгие периоды истории, когда можно, пусть и с натяжкой, зафиксировать роль силы права в международных отношениях, мы неизбежно обратим внимание, что такие непродолжительные периоды "сдерживания силы", как правило, следуют за весьма продолжительными войнами, как внешними, так и внутренними. Парадоксальным образом доверие, возникавшее в отношениях между союзниками внутри победившей коалиции (альянса), оказывалось тем фундаментом, на котором выстраивалась хрупкая пирамида послевоенного правопорядка, основанного НЕ ТОЛЬКО на силе.
Если говорить о близкой нам эпохе, то при всех своих недостатках "Потсдамский мир" держался именно на остаточном доверии бывших союзников по антифашистской коалиции. И лишь тогда, когда это доверие рухнуло окончательно и бесповоротно, с ним рухнул и основанный на нем международный правопорядок.
Трансформируя это частное наблюдение в вывод, имеющий более широкое значение, осмелюсь предположить, что такой замечательный феномен как "сила права", ставший предметом культа для нескольких поколений, проживших в кажущемся теперь и беспроблемным, и нереальным одновременно мире "после Второй мировой войны", возможен только при условии, что существует замкнутая система отношений, внутри которой поддерживается минимальный уровень доверия между сторонами этих отношений.
Из этого, кстати, следует, что любая латентная и, тем более, открытая гражданская война в обществе делает режим "силы права" невозможным, так как уничтожает необходимое для этого "пространство доверия". Так или иначе, если мы хотим снова вернуться к миру, где "сила права" имеет значение наряду с "правом силы", нам придется понять, между кем, из чего и на какой основе будет восстановлено доверие – основное условие возрождения силы права в современном мире.
! Орфография и стилистика автора сохранены