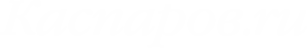"Публичное пространство, когда оно работает, представляет собой пространство, где рациональные и критические дискуссии могут бросить вызов искажениям власти и денег".
Юрген Хабермас
Недообразованцы
В начале объявленного Трампом "золотого века технологического возрождения Америки" возник парадокс: те самые самоучки (по-английски – autodidacts), которые построили цифровую империю США – Питер Тиль, Илон Маск, Марк Цукерберг, возможно, что и неосознанно, готовят ее упадок. Эти титаны-недообразованцы, часто представляемые в СМИ творцами будущего, воплощают своеобразное американское презрение к формальному образованию, отдавая предпочтение слому привычных норм вместо продуманных действий. Их врастание в политику, параллельное росту влияния антидемократических нарративов неореакционных (NRx) мыслителей, таких как Кертис Ярвин, Н.С. Лайонс, Ник Лэнд и Рассел Рено, сформировало альянс правых и технонационалистов, который теперь угрожает самим основам технореспублики, формально укрепляя ее. Попытаемся разобраться – где главные угрозы.
Американские техноэлиты: кто они?
Термин "самоучка" отлично отражает суть американской технологической элиты – самообразованной, интуитивной и не связанной институциональными ограничениями. В отличие от европейских элит, получивших классическое образование в Оксбридже или École Normale Supérieure, этим деятелям часто не хватает гуманитарных знаний и понимания истории, этики, социологии или политической теории. Питер Тиль, имеющий степень в Стэнфорде, и Алекс Карп, докторант Университета Франкфурта, являются исключением, тогда как Маск, выпускник Пенна, отказавшийся от программы докторантуры Стэнфорда, и Цукерберг, бросивший Гарвард, олицетворяют архетип Силиконовой долины. Лидеры NRx точно этому соответствуют: Куртис Ярвин, бросивший учебу в области компьютерных наук, создает антидемократические теории из выборочных исторических штудий; НС Лайонс – аватар и, вероятно, самоучка, критикует культурный упадок; Рассел Рено, доктор философии Йельского университета, направляет теологическую строгость в традиционалистскую полемику. Эта автодидактика, когда-то полезная, теперь обнаруживает свои ограничения. Технологическая республика – послевоенный синтез инноваций, демократии и научных исследований в Америке – опиралась на образованную элиту, которая уравновешивала технические навыки с гражданской ответственностью. Ванневар Буш, архитектор Национального научного фонда, воплощал этот идеал, сочетая инженерное образование с приверженностью общественному благосостоянию. Но где они сегодня?
Европейская политическая культура – от права к балансу властей
Начнем от печки. Власть должна быть следствием законного регулирования интересов общества, а не выражением воли сильного – эта основа европейской политической традиции. Она родилась не случайно и прошла долгий путь от римской идеи права как универсальной нормы – через греческие эксперименты с демократией – к институциональным рамкам поздней Европы. Кодификация права в Древнем Риме, прежде всего в форме "Законов XII таблиц" и затем в Corpus Iuris Civilis Юстиниана, заложила представление о том, что справедливость не принадлежит сильному, а вытекает из универсального порядка, доступного всем гражданам. Спустя столетия эта идея легла в основание европейского правового порядка, особенно в романских странах. Французский мыслитель Шарль Луи де Монтескьё в своём труде "О духе законов" систематизировал критически важное для политической культуры открытие: чтобы власть не стала абсолютистской, её необходимо разделить на ветви – законодательную, исполнительную и судебную. Разделение властей было не просто организационным принципом: оно стало философским фундаментом европейских режимов, стремящихся избегать произвола. Концепция правового государства (Rechtsstaat), сформированная в германской традиции XIX века, добавила ещё один этаж надстройки: власть должна действовать в рамках норм, заранее установленных не самой властью, а независимыми институтами. Это усилило презумпцию подчинения самого государства принципу законности, что позже легло в основу европейской модели управления.
Исторически именно Европа стала пространством, где возникла культура баланса власти, при которой ни король, ни парламент, ни суды не обладали абсолютной силой, и этот баланс не только обуздывал амбиции сильных, но и создавал условия для появления общественного пространства обсуждения и ответственности.
В противоположность этому идеалу, современная Америка под властью новых технократических элит всё больше склоняется к разрушению институциональных ограничений в пользу индивидуального произвола сильнейших. То есть, если в Европе институты возникали для ограничения власти сильных, то в США сегодня институты демонтируются в угоду капризам сильных.
Деградация образования: от универсальности к фабрике нормализации
Кризис современных элит тесно связан с кризисом образования. Величайшие умы человечества от Леонардо да Винчи до Исаака Ньютона не были узкопрофильными специалистами. Они воплощали идеал homo universalis: людей, совмещающих художественные, технические и гуманитарные способности. Леонардо одновременно создавал скульптуры, проектировал механизмы, изучал анатомию и исследовал законы перспективы, воплощая принцип, что истинное знание рождается на пересечении различных дисциплин. В 18-19 веках мыслители, к примеру Вильгельм фон Гумбольдт, выдвинул концепцию университетского образования как пространства свободного развития разносторонней мысли, а не обучения прикладным навыкам. Он подчеркивал, что целью университета должно быть формирование человека, способного к критике и творчеству, а не просто подготовка служащих для бюрократических машин. Однако начиная с XX века эта модель начала разрушаться. Жиль Делёз и Мишель Фуко обнаружили, что современная школа превратилась в фабрику нормализации: образование стандартизирует, дисциплинирует и конвейерно воспроизводит типовых граждан и вместо того, чтобы стимулировать интеллектуальную гибкость, подавляет её во имя производственной эффективности. Даже Европа, породившая идеалы многопрофильности, частично стала жертвой этой тенденции. Но если европейские элиты сохранили связи с гуманитарным знанием и философией управления, то американские техноэлиты приняли этот процесс в наиболее упрощённой форме, отказавшись от самого представления о широте образования. Не случайно символом нового культа невежества (halfwits, как отметил А. Немец) стала инициатива Трампа по ликвидации Министерства образования США, и вместо реформирования образования под задачу формирования ответственных граждан. Его решено просто устранить, формально передав штатам – как якобы ненужный институт, мешающий самовыражению сильных.
Это решение символизирует радикальный разрыв с представлением об образовании как о фундаменте демократической республики и уничтожает институт подготовки элит.
Эрозия элит началась с эрозии образования, хотя без многопрофильного формирования ума лидерство становится слепым порывом, а не осознанным управлением.
Этическая мотивация управления государством: Вебер и "веселье Трампа"
Управление бизнесом и управление государством требуют принципиально разных типов мотивации. Бизнес ориентирован на максимизацию прибыли для ограниченного круга акционеров. Государство же должно балансировать интересы множества групп, включая самых уязвимых граждан, и обеспечивать долгосрочную устойчивость общества. Макс Вебер, один из основоположников современной социологии, в знаменитой лекции "Политика как призвание и профессия" (1919) ясно развёл две линии ответственности:
– Этика убеждений – поступать согласно внутренним моральным принципам, не заботясь о последствиях.
– Этика ответственности – учитывать реальное воздействие своих действий на общество, даже если это требует компромиссов.
Для политика, по Веберу, этика ответственности является необходимым условием зрелости. Управлять государством – значит брать на себя бремя последствий, а не следовать личным желаниям или эмоциям.
На этом фоне особенно абсурдно звучит признание Дональда Трампа в скандальном интервью The Atlantic: "Я управляю Соединёнными Штатами. Я управляю миром. И это очень весело". Президент Байден такого себе не позволял... Такое восприятие власти – как игры, как развлечения, как эгоистического проекта – принципиально противоречит веберовскому пониманию политики как служения (прямо по Торе) и внутренней дисциплины. Когда власть превращается в арену для потакания личным капризам, государство перестаёт быть гарантом интересов общества и становится утратившей своё предназначение игрушкой в руках миллионеров, ergo, перестаёт быть государством в веберовском смысле.
Формирование идентичности через чаты
Сегодняшние "бролигархи" отдают приоритет разрушению, а не управлению. Их интеллектуальная поверхностность, замаскированная богатством и харизмой, способствует формированию модели управления, более близкой к технофеодализму NRx, чем к американской демократической традиции, как видно из опубликованных Беном Смитом в Semafor частных групповых чатов Signal и WhatsApp. Эти чаты, как и "Chatham House", являются знаковым свидетельством политической перестройки Америки. Чаты, созданные венчурным капиталистом Марком Андриссеном, объединяют технологических магнатов, недоучек NRx и консервативных деятелей в одном флаконе. Здесь либертарианство Тиля, антибюрократическое рвение Маска и прагматичный разворот Цукерберга к сапогу Трампа сходятся с риторикой Ярвина и культурными эскападами НС Лайонса. Чаты, защищенные исчезающими сообщениями (ну чем не демонстрация полной безответственности за свои слова?), избегают прозрачности публичной сферы, способствуя тому, что Смит называет "групповым мышлением", где "писатели склоняются к миллиардерам". Дебаты – Лонсдейл против Шринивасана о Китае, кубинский спарринг с Шапиро о культуре – отдают предпочтение мемам, а не содержанию, отражая предпочтение самоучек провокации, а не строгости.
Последствия могут быть серьезными: технологическая республика процветала на открытом рынке и институциональном доверии, но презрение самоучек к "Собору" академических кругов, ответственных СМИ и ответственной бюрократии – подрывает и то, и другое. Расходы Маска на кампанию Трампа 2024 года в размере 277 миллионов долларов и роль в Департаменте эффективности правительства (DOGE) до мая 2025 года продвигали вдохновленную NRx политику, такую ??как массовые бюрократические чистки, перекликающуюся с RAGE Ярвина ("Всех госчиновников в отставку"). Финансирование Тилем платформы цифрового феодализма Ярвина Urbit и кампании Дж. Д. Вэнса по выборам в Сенат США усиливает антидемократические идеи, в то время как покупка Цукербергом дома в округе Колумбия за 23 миллиона долларов сигнализирует о стратегическом принятии техноэлитами власти в ущерб принципа независимости, этого когда-то столпа Силиконовой долины. Эти действия, оттачиваемые в чатах, отдают приоритет централизованному контролю над плюралистическими дебатами, подрывая изначально бунтарское и демократическое ядро техно??республики.
Экономика их накажет?
Экономические последствия подчеркивают ограничения власти этих самоучек. Тарифы Трампа от 2 апреля 2025 года, поддержанные участниками чатов, привели к потере их богатства в размере 208 миллиардов долларов, при этом Маск потерял 143 миллиарда, а Цукерберг – 28,1 миллиарда. Падение акций Palantir на 20% отражает вовлеченность Карпа в создание этого хаоса, несмотря на его философскую подготовку. Неспособность самоучек предвидеть такие последствия раскрывает их историческую слепоту – европейские элиты, пропитанные меркантилистской историей, могли предвидеть риски, а эти даже не понимают, о чем идет разговор. Общественная реакция – хакнутые пешеходные переходы в Калифорнии, акции типа "Все ненавидят Илона" высмеивающие Маска в X, сигнализируют о растущем недоверии к этим малообразованным управдомам. Заковыристые трактаты Ярвина, распространенные в чатах, соблазняют техноэлиту видениями "генерального директора-монарха", не связанного демократическими обузами. Эссе НС Лайонса об упадке управленческого потенциала перекликаются с критикой бюрократии Маска, в то время как "сильные боги" Рено апеллируют к христианскому консерватизму Тиля.
Тем не менее, их идеям не хватает систематической строгости европейских мыслителей, таких как Макс Вебер или Ханна Арендт, чьи работы основывают управление на исторических нюансах. Принятие самоучками спекулятивного радикализма NRx, не отягощенное формальным обучением, подпитывает политику, которая дестабилизирует, а не реформирует, как это видно по судебным искам Трампа в СМИ и рыночным ралли, вызванным введением тарифов.
Случай Карпа особенно показателен. Его франкфуртское образование, пропитанное коммуникативной рациональностью, могло бы противостоять антидемократическому дрейфу других участников чатов. Вместо этого инструменты слежки возглавляемого им Palantir, используемые Пентагоном и ICE, вполне соответствуют иерархическому видению NRx, предавая идеалы его учителя Хабермаса. Поворот Карпа от гуманитария к "бролигарху" иллюстрирует, что даже образованные люди поддаются американскому предубеждению к действию вместо размышления, усиливая критику недообразованцев – о том, что этим элитам не хватает глубины европейских коллег.
Государство им поможет
В Торе (и Ветхом Завете) есть притча о золотом тельце, и в ней заключена глубокая аллегория. Пока Моисей поднимался на гору Синай за знанием, за первыми законами, которые должны были структурировать общество и стать основой справедливого управления, народ внизу, нетерпеливый и стремящийся к немедленной награде, создал себе золотого тельца – символ доступного богатства и мгновенного удовлетворения. Там, где требовались ожидание, усилие и принятие ответственности за знания, люди выбрали упрощение, поклонение тому, что можно увидеть и потрогать. Современная Америка повторяет эту древнюю ошибку. Вместо стремления к знанию, управлению через ответственность и долг, на пьедестал возводится сделка, успех измеряется богатством, а управление государством воспринимается как разновидность игры. Чаты миллиардеров, празднующие сделки вместо дискуссий о будущем общества, стали новым алтарём золотого тельца.
Но, как и тогда у подножия Синая, отступление от знания в пользу идолов неизбежно приводит к процессу разрушения, который уже стучится в дверь. Упадок технологической республики не неизбежен, но для ее спасения требуется возвращение к управлению образованных и ответственных элит.
Европейские элиты, сочетающие технические знания с гуманистическим пониманием, предлагают неплохую модель. Американские самоучки, напротив, обладают властью без ответственности, а их чаты – это микрокосм интеллектуальной гордыни. Чтобы восстановить республику, они должны принять смирение обучения – формального или иного – признавая, что инновации без этики – это рецепт скорого краха. Групповые чаты, как отмечает в журналистском расследовании Смит, исчезают по мере того, как X впитывает их когда-то завиральные идеи, но их наследие сохраняется в Америке Трампа. Триумф самоучек – опора Тиля в округе Колумбия, доминирование платформы Маска знаменует собой пиррову победу. Их богатство и влияние, не сдерживаемые интеллектуальным балластом классического образования, породили растасканную по карманам технореспублику, где технологии давно служат только власти, а не прогрессу. Только примирив свой разрушительный гений с пониманием прошлого, элита Америки сможет предотвратить крах технологической республики, которую она построила, отказываясь от самих республиканских принципов.
Справочно: европейские лидеры с выдающимся академическим статусом
Традиция интеллектуальной подготовки проявляется не только во Франции и Германии. В Италии Марио Драги, доктор экономики Массачусетского технологического института (MIT) и бывший глава Европейского центрального банка, олицетворяет технократическую элиту высшего уровня, а президент Серджо Маттарелла был профессором права в Университете Палермо, сочетая юридическую строгость с политической ответственностью.
В Греции премьер-министр Кириакос Мицотакис получил образование в Гарварде и Стэнфорде, соединяя социальные науки, политику и бизнес-управление, а бывший президент Прокопис Павлопулос, профессор конституционного права, стоял у истоков развития современного правового поля страны.
В Польше президент Анджей Дуда, доктор права и профессор Ягеллонского университета, соединяет традицию юридической точности с практикой политического лидерства, в период экономического расцвета Польши.
Эти фигуры – не просто политики, а представители той старой европейской школы, где путь к власти пролегал через годы учёбы, преподавания, научной работы и понимания ответственности перед обществом.
Показательно, что несмотря на кризис, европейские университеты продолжают оставаться магнитом для восходящих элит других регионов. Лидеры развивающихся стран – от Ближнего Востока до Юго-Восточной Азии – стремятся отправлять своих детей на обучение в Оксфорд, Кембридж, Сорбонну или Цюрихский политехнический институт. Это отражает негласное признание: несмотря на все недостатки, именно европейская традиция гуманитарного и системного образования остаётся одним из последних надёжных источников формирования подлинных элит, способных не только управлять технологиями, но и понимать долг перед обществом и историей. Даже те, кто мечтают о технологическом превосходстве, всё ещё ищут свою интеллектуальную закалку там, где право, культура и долг сформировали идею зрелой власти.