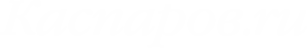В последнее время много обсуждалось то, как Марк Рютте на саммите НАТО назвал президента Дональда Трампа "папочкой". Безусловно, эта оговорка – свидетельство того, насколько беспомощной оказалась Европа перед лицом геополитических угроз. Но зависимость от американской поддержки в вопросах обороны – не единственная проблема. Европейский союз, смелый эксперимент в области международного управления, задуманный как результат Второй мировой войны, достиг своих пределов.
Мы становимся свидетелями заката Европы – упадка союза, основанного на принципах мира и дипломатии, который больше не способен эффективно реагировать на вызовы времени. Современный кризис требует решительных действий – не сотрудничества и постепенных шагов, призванных предотвратить войну, а признания того, что война уже началась, и пришло время сражаться.
В 1950-х годах, после катастрофы Второй мировой войны, европейские страны, что вполне объяснимо, отчаянно стремились найти механизм, который обеспечил бы мир и безопасность на континенте в будущем. Объединение европейских наций началось с шести стран-основательниц (Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Бельгии и Люксембурга) и было институтом, радикально отличавшимся по масштабу и задачам от того, каким мы знаем его сегодня. Франция и Германия долгое время были источниками напряжённости на континенте, и лидеры стремились найти способ не допустить, чтобы эти конфликты снова привели к войне.
Простая идея, на которой основывался европейский проект, заключалась в том, что экономическая интеграция устранит угрозу войны. Страны, тесно связанные друг с другом финансово и политически, будут слишком много терять в случае конфликта и, следовательно, будут заинтересованы в сохранении мира. Сотрудничество увеличивало бы общий экономический "пирог" для всех, а это, в свою очередь, создавало бы стимулы для предотвращения военной эскалации.
По мере роста европейского эксперимента он изменялся не только в масштабах, но и по своей сути. Его радикальное преобразование началось с Маастрихтского договора 1991 года, который учредил Европейский союз. Несколько лет спустя последовал валютный союз, введение евро, а затем – и Шенгенское соглашение, открывшее внутренние границы Европы. Все эти шаги проложили путь к дальнейшему расширению: в 1995 году к Союзу присоединились три страны – Австрия, Финляндия и Швеция; а в 2004 году, в рамках масштабного расширения, Европа пригласила сразу 10 новых членов. Ранее подчинённые страны Восточной Европы были приняты в европейскую семью, получив шанс на стабильность, процветание и мирное будущее. Это было также геополитическим обещанием: те, кто разделяет западные ценности и принимает установленные правила, могут стать частью европейского сообщества.
На всём протяжении этого процесса роста европейский проект продолжал опираться на одну и ту же идею: свободная торговля, процветание и либеральные ценности станут барьером против угрозы войны.
К сожалению, как бы логично ни звучала эта идея изначально, она не оправдала себя.
Действительно, по мере развития европейского проекта мы наблюдали целый ряд впечатляющих успехов. Даже сама его долговечность уже является своего рода достижением. Но эти успехи основывались на фундаментальных принципах постепенности и сотрудничества. Естественно, организация, построенная на таких принципах, формирует определённый стиль политики и порождает специфический тип политиков, которые преуспевают в этой системе: осторожных, красноречивых, умеющих вести переговоры. Институции формируют тех, кто в них работает, и наоборот. Со временем этот порядок укореняется всё глубже.
Проблема в том, что рано или поздно возникает вызов, требующий отхода от привычных методов, – крайняя угроза, на которую нужно отвечать крайними мерами. Когда это происходит, система, выстроенная вокруг поиска консенсуса и избегания конфликтов, с трудом может принять необходимость радикальных изменений. И это даже не считая гигантской институциональной инерции, которую необходимо преодолеть в рамках ЕС: достаточно вспомнить количество стран, ведомств и чиновников, вовлечённых в процесс.
По мере того, как в системе появились трещины (а точнее, пропасти), в пустоты закономерно начали проникать радикальные партии. Они отражают понятное недовольство общества политикой постепенности, которая доминировала в Европе и оказалась совершенно неспособной реагировать на современные вызовы. Уже давно остро необходима альтернатива, но её не предложили традиционные политические силы. Радикальные партии, появившиеся на этом фоне, возможно, точно определили и использовали саму суть проблемы – что политика сотрудничества недостаточна в нынешних условиях, – но при этом они вовсе не представляют собой движение к какому-либо реальному решению.
Решение требует полного переосмысления того, каким должно быть европейское лидерство в XXI веке, учитывая новые угрозы, с которыми сталкивается континент. Эти угрозы носят экзистенциальный характер. Они исходят от России, Китая, Ирана, Северной Кореи, широкой сети террористических организаций и остальных структур, составляющих то, что можно назвать глобальной сетью авторитаризма.
Конфронтация – неотъемлемая часть идеологии этих режимов; нападение на свободную, демократическую рыночную экономику и её разрушение заложено в самой их ДНК. Их выживание требует войны с врагами. ЕС не готов к борьбе с внешними акторами, которые представляют собой фундаментальную угрозу его существованию, с которыми он не может найти решение путём переговоров и мирно сосуществовать. Политика минимизации рисков и поиска консенсуса неуместна, когда речь идёт о войне за выживание.
И давайте говорить откровенно: сегодня Западный мир находится в состоянии войны с врагами демократии. Нам нужны институты, способные реагировать на эту серьёзную угрозу, мобилизовывать все доступные ресурсы и принимать срочные меры, а не искать обходные пути. Структура ЕС в его нынешнем виде не приспособлена для перехода к режиму конфронтации, ведь его основание и развитие строились на языке сотрудничества. Те качества, которые долгое время были его сильными сторонами, по своей сути не подходят для решения нынешних задач.
Помимо роста мощи и консолидации глобальной авторитарной сети, мы наблюдаем одновременный уход Америки с международной арены. Именно поэтому НАТО не является ответом на вызов, брошенный Европе авторитарной сетью – она слишком сильно доминирует и зависит от Соединённых Штатов.
Легко обвинить Трампа в том, что он отступил и оставил Европу слабой и беззащитной, но он лишь обнажил то, что всегда было разрушительным изъяном в европейской архитектуре. ЕС был создан и взращивался под защитой Америки, его формула экономической интеграции никогда не подвергалась испытанию без поддержки мощи крупнейшей военной державы мира. Европейскому Союзу никогда не приходилось действовать самостоятельно.
Было нереалистично и неразумно ожидать, что Америка всегда будет оплачивать безопасность континента, и Трамп, в конечном счёте, разрушил это шаткое предположение. Европе пришлось искать выход, пока Путин продолжает свои наступления, а Америка, в основном, отходит на второй план.
Недавнее торговое соглашение с США лишь подчёркивает эту зависимость – и её высокую цену. Односторонние тарифы и обещание ЕС потратить 750 миллиардов долларов на американскую энергетику – это едва замаскированная плата за продолжительное присутствие американских войск на континенте. Европа, не способная обеспечить собственную оборону, цепляется за всё, что Америка ещё готова предоставить.
До сих пор Европа не смогла эффективно отреагировать на угрозу со стороны России, поскольку для этого требуется совершенно новая и смелая парадигма европейского управления. Вместо этого мы наблюдали, как европейские страны метались, предпринимая разрозненные действия в направлении достижения своей цели, не испытывая реального желания конфронтации. История санкций, введённых против режима Путина во время войны в Украине, – яркий тому пример. Восемнадцать пакетов санкций были подписаны, но Путин по-прежнему всё ещё способен вести свою войну, поддерживать наступление на поле боя и вести бизнес со своими международными дружками. Даже после всех этих раундов всё ещё есть достаточно возможностей нанести режиму экономический ущерб, поскольку ни одна из санкций не была рассчитана на решительный финансовый удар. Они являются примерами поэтапного подхода к формированию политики, воплощаемого ЕС, направленного на то, чтобы мягко подтолкнуть противника к столу переговоров. Конечно же, такой подход не работает с диктатором; более того, он лишь подпитывает его агрессию.
Другой пример – это миллион 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, которые должны были быть отправлены в Украину. Через полгода Европа была вынуждена признать, что союз из 27 стран не смог ни произвести, ни закупить такое количество. А затем, как насмешка, прозвучало заявление России о том, что Северная Корея передала миллион снарядов из собственных запасов. Одна из беднейших стран мира, судя по всему, превзошла самый богатый континент в обеспечении боеприпасами своего союзника, ведущего войну.
В отсутствие европейских лидеров, готовых взять на себя ответственность за новый путь вперёд, будущее континента вполне может быть написано в Москве. Если бы Путин напал на страну НАТО, которая одновременно является членом Европейского Союза, это поколебало бы основы европейского единства, как никогда прежде. Поэтому стоит задать вопрос: может ли Европа, неспособная защитить собственных граждан, вообще иметь какое-либо осмысленное будущее? Заседание, созванное после бомбардировки европейской столицы для обсуждения компромиссной резолюции, станет лишь надгробным камнем над европейским проектом.
Даже если самые худшие сценарии не воплотятся в жизнь, нынешняя неэффективность Союза уже стала парализующей. Способна ли сегодняшняя Европа обладать видением и возможностями, чтобы создать нечто подобное Шенгенской зоне или валютному союзу? Может ли она всерьёз расширяться, если из-за постоянных тупиков рискует превратиться в простого наблюдателя – в войне против Украины, гибридной войне против Молдовы или ненасильственном захвате Грузии?
Неизбежный вывод заключается в том, что ЕС рискует потерять свою значимость и исчезнуть, если сам Договор не будет кардинально изменен. Это, безусловно, монументальная задача, но, став свидетелями стольких узких мест и сбоев в нынешней системе, мы, по крайней мере, имеем чёткое представление о том, как должны выглядеть необходимые изменения. И сама идея не нова.
Ещё в 2017 году лидеры Германии и Франции выдвигали идею "Европы с разной скоростью", предлагая самую масштабную на тот момент перестройку всей архитектуры ЕС. Если бы не пандемия COVID-19 и последовавшая за ней война России против Украины, эта инициатива могла бы вылиться в более активную дискуссию о регионализации Союза. Эта идея до сих пор может получить вторую жизнь – особенно в Северно-Балтийском регионе, где страны активно стремятся к более тесной интеграции в сфере безопасности и обороны и где угроза со стороны России воспринимается особенно остро. Тем временем части Западной Европы уже начинают расходиться в интересах с северными государствами. А в "нелиберальном блоке" Венгрии и Словакии с нетерпением ждут выборов в Чехии, надеясь, что новое правительство присоединится к их антиевропейскому, пророссийскому лагерю.
И всё же современные европейские лидеры продолжают цепляться за идеал полностью мирного блока, выставляя свою приверженность неприменению силы как то, что отличает ЕС на международной арене. Создаётся впечатление, что адаптация к новой реальности войны отменит основную миссию ЕС, хотя на самом деле всё наоборот: принятие новых, более жёстких мер – единственный шанс Европы сохранить миролюбивый проект, который она так тщательно выстраивала.
Пришло время перевернуть новую страницу в эволюции ЕС. Имперские амбиции России не были сдержаны Минскими соглашениями 2014 и 2015 годов, но могут быть ограничены пересмотром договоров, лежащих в основе Союза.
Настало время для следующей версии европейского проекта – переосмысленной и укреплённой для будущего.
Во-первых, единогласие. Европейский союз был основан как проект общих целей и принял множество соглашений, призванных продвигать его видение. Достижения такого масштаба сейчас кажутся немыслимыми – потому что не все в Европе разделяют общие цели. Венгрия – один из крупнейших получателей фондов ЕС – активно работает против европейского проекта. Словакия не сильно отстаёт. В вопросах безопасности Испания по-прежнему настаивает, что ЕС – это проект мира и культуры, а не коалиция, которая должна уметь защищаться. Если Европа хочет выжить, ей придётся отказаться от принципа единогласия.
Во-вторых, геополитика. Европа исцелила многие раны Холодной войны, приняв страны Восточного фланга в свой состав. Это расширение стало, пожалуй, величайшим геополитическим успехом ЕС. Но работа ещё не закончена, и есть ещё выгоды, которые можно получить. Украина, Молдова, Грузия и Армения – страны с населением, которое в подавляющем большинстве ориентировано на Запад. ЕС должен предложить этим странам реальный путь в европейское будущее, иначе враги демократии продолжат строить для них альтернативные пути в противоположном направлении.
В-третьих, оборона. Проект мира не сможет выжить, если мир не защищать. Эпоха мирных дивидендов закончилась. Должна начаться новая эра – эра, в которой Европа станет защищать себя и своих союзников. Мирного сосуществования с Путиным не будет. И, возможно, Европа со временем осознает, что такое сосуществование с Си Цзиньпином тоже невозможно. Американский щит безопасности уже не будет таким сильным и надёжным, как прежде. Европе нужно развивать инструменты, которые помогут защищать те ценности, которые олицетворяет ЕС. Союз должен превратиться из миролюбивого сообщества в институт, способный отвечать на реальные угрозы насилия, способный твёрдо стоять против тех, кто желает его разрушения.
Европа не обречена на провал. Но для выживания необходимо осознать, что свобода больше не даётся даром, и что для её защиты нужно использовать все доступные средства.