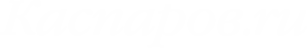Порою мы видим лидеров – нет, не на парламентской трибуне (да и кому это нужно, если публичная политика умерла в стенах парламента и заменена протезом ток-шоу?), – а в теледебатах.
И вот, например, Валерия Новодворская вещает "от имени демократов". По крайности – "от нашей партии Демократический Союз". Хотя партия эта, сыграв заметную роль в московской, да и не только, митинговой и газетной жизни, благополучно распалась на части раньше, чем развалился СССР. Остались название, лицо лидера и немногочисленная группа сторонников. Но разговор все равно идет во множественном числе – "мы, демократы"... И приглашают – поскольку более удобного спарринг-партнера для нынешней генеральной линии просто не найти.
И "Русский Журнал" Павловского ее публикует, под заголовком "Право на протест нужно заслужить". Оказывается, не те у нас теперь демократы пошли: "безответственные честолюбцы, люди без убеждений, для которых главное – оставаться "в обойме" и любыми путями двигаться к власти, к славе, к храму... куда-нибудь". Дальше список виновных: Комитет-2008, "Яблоко", Алексеева, Пономарев, Каспаров. О последнем – с сожалением: "Немолодой уже человек, не без интеллекта... отсутствие исторических знаний здесь роковым образом сказалось".
Нет, не зря Глеб Олегович поместил это интервью на свой сайт! Общий его смысл примерно таков: право называться демократом и борцом дается лишь по предъявлении книжки политкаторжанина с дореволюционным стажем.
Сдаюсь. Не заслужил. Нету у меня такой книжки. Как и у большинства моих соотечественников.
Но если речь зашла о "дореволюционном стаже", то можно вспомнить немало поучительного.
Родившийся в 1847 году Сергей Геннадиевич Нечаев впервые попытался стать лидером во время студенческих волнений в Санкт-Петербургском университете зимой 1868-1869 годов, но неудачно. Бежал за границу, распустив слух о своем аресте и бегстве из Петропавловской крепости.
Объявившись в марте 1869 года в Женеве у Бакунина, назвался представителем новой волны революционного движения. Бакунин был буквально очарован Нечаевым, поселил его у себя и представил Герцену. Тот отнесся к молодому революционеру с недоверием, но Нечаев приглянулся Огареву (который даже посвятил ему стихотворение "Студент"). В результате удалось получить некоторые средства на "революционную работу". "Работа" пошла: началось издание воззваний от имени несуществующего "Всемирного революционного союза", был написан знаменитый "Катехизис революционера". Там, кстати, предлагалась "табель о рангах": "У каждого товарища должно быть под рукой несколько революционеров второго и третьего разряда, то есть не совсем посвященных. На них он должен смотреть как на часть общего революционного капитала, отданного в его распоряжение"..." Впрочем, я отвлекся.
В августе того же года с мандатом того же мифического "Союза" Нечаев возвращается в Россию и организует в Москве среди студентов Петровской сельскохозяйственной академии группу "Народная расправа". Жесткая конспирация и дисциплина: "пятерки", подчиненные "комитету", на деле состоящие из одного Нечаева. Но внедрение "Катехизиса" в жизнь натолкнулось на Ивана Иванова, посмевшего сим авторитарным методам возразить. Нечаев заманивает Иванова в парк, где и убивает, при этом "повязывая кровью" членов своего кружка.
Нечаев бежит за границу, соучастников убийства арестовывают, а суд над 85 "нечаевцами" широко освещается в печати: более "удобных" оппонентов власти трудно было себе представить.
Но на этом Нечаев не останавливается: новые разрушительные писания, попытки вести себя среди эмигрантов так же, как в России, – то есть самозванство, интриги, шантаж. В 1872 году он арестован, выдан властями Швейцарии в Россию, где осужден на двадцать лет каторги и помещен в камеру Петропавловской крепости "навсегда" (это слово в приговоре было подчеркнуто государем). Будучи, безусловно, "сильной личностью", Нечаев успел еще распропагандировать охрану, которой было запрещено с ним разговаривать (тут тоже не обошлось без мистификации и самозванства) и установил связь с народовольцами... Умер "от общей водянки, осложненной цинготною болезнью" 21 ноября 1882 года, ровно через 13 лет после убийства Ивана Иванова.
Трудно переоценить значение Нечаева – и для российского общества, и для российского освободительного движения. Ведь газетами его слава не ограничилась: "нечаевское дело" подвигло Достоевского на писание романа "Бесы", а прототипом Петра Верховенского послужил сам Сергей Геннадиевич. "Нечаевщина" была осуждена и революционерами. Даже соратник-соавтор Бакунин назвал нечаевскую программу "катехизисом абреков". Из методов российского революционного движения ушел террор – правда, лишь на десятилетие.
А само слово "нечаевщина" стало нарицательным: мистификация, провокация, самозванство, диктатура "сильной личности"... Этого старались избегать. Но не все. Ленин, например, Нечаева уважал, а Достоевского – не любил. Дальнейшую историю России вожди, фюреры писали кровью Иванов Ивановых. Так что помнить о "дореволюционном стаже" стоит и теперь.
...Хотя бы для того, чтобы в российском политическом футболе наконец появилась команда, где не только рассчитываются на первый-второй-третий разряды, но ещё и играют. И не столь важно, кто будет капитаном, – главное, чтобы пасовали друг другу и радовались совместно мячам, забитым в чужие, а не в свои ворота.
Опубликовано также в газете "Объединенный гражданский фронт"